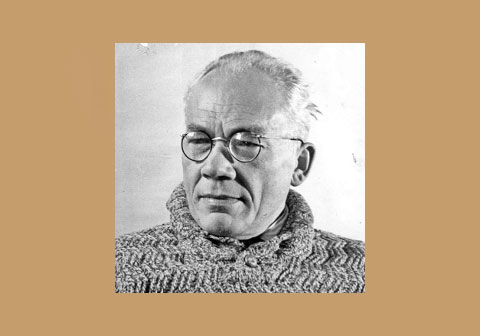Отрывок из романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел» (1929 г.)

«…Перед ужином все слегка опьянели.
– Дайте бедному ребенку выпить,– сказала Хелен. – Это ему не повредит.
– Что? Моему ма-аленькому? Сын, ты не станешь пить, правда? – шутливо сказала Элиза.
– Не станет! – сказала Хелен, тыча его в ребра. – Хо-хо-хо!
И она налила ему большую рюмку виски.
– Вот! – весело сказала она. – Это ему не повредит!
– Сын, – сказала Элиза серьезно, покачивая своей рюмкой. – Я не хочу, чтобы ты привыкал к этому.
Она все еще была верна заветам почтенного майора.
– Да! – сказал Гант.– Это тебя сразу погубит.
– Если ты привыкнешь к этой дряни, твое дело каюк, парень, – сказал Люк. – Поверь мне на слово.
Пока он подносил рюмку к губам, они не жалели предостережений. Огненная жидкость обожгла его юную глотку, он поперхнулся, из глаз брызнули слезы. Он и. раньше пил – крошечные порции, которые сестра давала ему на Вудсон-стрит. А один раз с Джимом Триветтом он вообразил, что совсем пьян.
После еды они выпили еще. Ему налили маленькую рюмку. Потом все отправились в город заканчивать предпраздничные покупки. Он остался один в доме.
Выпитое виски приятным теплом разливалось в его жилах, омывало кончики издерганных нервов, дарило ощущение силы и покоя, каких он еще не знал. Вскоре он пошел в кладовую, куда убрали вино. Он взял стакан, на пробу смешал в нем в равных количествах виски, джин и ром. Потом, усевшись у кухонного стола, он начал медленно потягивать эту смесь.
Жуткое питье оглушило его сразу, как удар тяжелого кулака. Он мгновенно опьянел и тут же понял, зачем люди пьют. Это была, он знал, одна из величайших минут его жизни – он лежал и, подобно девушке, впервые отдающейся объятьям возлюбленного, алчно наблюдал, как алкоголь овладевает его девственной плотью. И внезапно он понял, насколько он истинный сын своего отца, насколько, – с какой новой силой и тонкостью ощущений, – он настоящий Гант. Он наслаждался длиной своего тела, рук и ног, потому что у могучего напитка было больше простора творить свое колдовство. На всей земле не было человека, подобного ему, никого достойного и способного так великолепно и восхитительно напиться. Это было величественнее всей музыки, какую ему доводилось слышать, это было величественно, как самая высокая поэзия. Почему ему этого не объяснили? Почему никто ни разу не написал об этом, как надо? Почему, если возможно купить бога в бутылке, выпить его и стать самому богом, люди не остаются вечно пьяными?
Он испытал миг чудесного изумления – великолепного изумления, с которым мы обнаруживаем то простое и невыразимое, что лежит в нас погребенным и ведомо нам, хотя мы в этом не признаемся. Такое чувство мог бы испытать человек, если бы он пробудился от смерти к раю.
Потом божественный паралич постепенно сковал его плоть. Его конечности онемели, язык все больше распухал, и он уже не мог согнуть его для произнесения хитрых звуков, слагающихся в слова. Он заговорил громко, повторяя трудные фразы по нескольку раз, бешено хохоча и радуясь своим усилиям. А над его пьяным телом парящим соколом повис его мозг, глядя на него с презрением, с нежностью, глядя на его смех с печалью и жалостью. В нем крылось что-то, чего нельзя было увидеть и нельзя было коснуться, что-то над ним и вне его – глаз внутри глаза, мозг внутри мозга. Неизвестный, который обитал в нем и глядел на него со стороны, и был им, и которого он не знал. «Но, – подумал он, – сейчас я в доме один, и, если можно его узнать, я узнаю».
Он встал и, шатаясь, выбрался из чуждой света и тепла кухни в холл, где горела тусклая лампочка, а от стен веяло могильной сыростью. Это, подумал он, и есть дом.
Он сел на жесткий деревянный диванчик и стал слушать холодную капель безмолвия.
Это дом, в котором я жил в изгнании. В доме есть чужой, и чужой во мне.
О дом Адмета, в котором (хоть я был богом) я столько вынес. Теперь, дом, я не боюсь. И призраки могут без праха подходить ко мне. Если есть дверь в безмолвии, пусть она распахнется. Мое безмолвие может быть более великим, чем твое. И ты, таящийся во мне, который и есть я, выйди из тихой оболочки тела, не отвергающей тебя. Нас некому увидеть. О, выйди, мой брат и господин, с неумолимым лицом. Если бы у меня было сорок тысяч лет, я все, кроме последних девяноста, отдал бы безмолвию. Я врос бы в землю, как гора или скала. Распусти ткань ночей и дней, размотай мою жизнь назад к рождению, доведи меня вычитанием до наготы и построй меня вновь всеми сложениями, которых я не считал. Или дай миг взглянуть в живое лицо мрака; дай мне услышать страшный приговор твоего голоса.
Но не было ничего, кроме живого безмолвия дома, никакая дверь не распахнулась.
Вскоре он встал и вышел из дома. Он не надел ни шляпы, ни пальто – он не сумел их найти. Вечер обволакивали густые пары тумана; звуки доносились смутно и радостно. Земля уже полнилась рождеством. Он вспомнил, что не купил подарков. В кармане у него было несколько долларов – пока не закрылись магазины, он должен всем купить подарки. С непокрытой головой он направился в город. Он знал, что пьян и шатается, но он верил, что сумеет скрыть свое состояние от встречных, если постарается. Он упрямо шагал по линии, разделявшей бетонный тротуар пополам, не спуская с нее глаз, и сразу возвращался на нее, когда его относило в сторону. Около площади улицы кишели запоздалыми покупателями. На всем лежала печать завершенности. Люди густым потоком возвращались домой праздновать рождество. Он свернул с площади в узкую улочку, шагая среди оглядывающихся прохожих. Он не спускал глаз с черты. Он не знал, куда идти. Он не знал, что купить.
Когда он проходил мимо аптеки Вуда, компания у входа захохотала. Секунду спустя он смотрел на дружески улыбающиеся лица Джулиуса Артура и Ван Йетса.
– Куда это ты направляешься? – сказал Джулиус Артур.
Он попробовал объяснить, но получалось только хриплое бормотание.
Он пьян в стельку, – сказал Ван Йетс.
Присмотри-ка за ним, Ван,– сказал Джулиус. – Поставь его где-нибудь в подъезде, чтобы никто из родственников на него не наткнулся. Я схожу за машиной.
Baн Йетс аккуратно прислонил его к стене; Джулиус Артур бегом свернул в Чёрч-стрит и минуту спустя подъехал к тротуару. Юджин испытывал непреодолимое желание повиснуть на первой попавшейся опоре. Он обнял их плечи и обмяк. Они крепко стиснули его между собой на переднем сиденье. Где-то звонили колокола.
– Дин-дон! – сказал он весело.– Рож-ство!
Они ответили взрывом смеха.
Когда они подъехали, дом все еще был пуст. Они вытащили его из автомобиля и, пошатываясь, повели его вверх, по ступенькам крыльца. Ему было очень грустно, что их дружба кончилась.
Где твоя комната, Джин? – сказал запыхавшийся Джулиус Артур, когда они вошли в холл,
«Сойдет и эта», – сказал Ван Йетс.
Дверь большой спальни напротив гостиной была открыта. Они повели его туда и положили на постель.
«Давай снимем с него башмаки», – сказал Джулиус Артур. Они расшнуровали их и сняли.
Что-нибудь еще, сынок? – сказал Джулиус.
Он попытался сказать им, чтобы они раздели его, положили под одеяло и закрыли за собой дверь, чтобы скрыть его эскападу от семьи, но он утратил дар речи.
Они, улыбаясь, поглядели на него и ушли, не закрыв двери.
Когда они ушли, он продолжал лежать, не в силах пошевелиться. Он утратил ощущение времени, однако его сознание было ясно. Он знал, что должен встать, закрыть дверь и раздеться. Но он был парализован.
Вскоре Ганты вернулись домой. Только Элиза еще задержалась в городе, выбирая подарки. Был уже двенадцатый час. Гант, его дочь и два сына вошли в комнату и уставились на него. Когда они заговорили с ним, он беспомощно залепетал.
– Говори же! Говори! – завопил Люк, кидаясь к нему и энергично его встряхивая.– Ты что, онемел, идиот?
Это я буду помнить, подумал он.
– Нет у тебя гордости? Нет у тебя чести? Вот до чего дошло! – театрально взывал моряк, расхаживая по комнате.
Как он себе нравится! – думал Юджин. Слова у него не получались, но ему удалось иронически забормотать в такт поучениям брата.
– Ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту! – сказал он, точно воспроизведя его интонацию.
Хелен, расстегивавшая его воротник, согнулась над ним от смеха. Бен быстро усмехнулся под сведенными бровями.
Нет у тебя этого? Нет у тебя того? Нет у тебя это – Он был окутан этим ритмом. Да, сударыня. Сегодня честь у нас вся вышла, но есть свежий запасец самоуважения.
– А, да замолчи,– пробормотал Бен.– Никто же не умер!
– Пойдите согрейте воды, – сказал Гант профессионально. – Надо очистить ему желудок. – Он больше не казался старым. Его жизнь на одно чудесное мгновение возвратилась из иссушающего сумрака тени. Она обрела здоровую крепость и энергию.
– Не трать порох попусту,– сказала Хелен Люку, выходя из комнаты.– Закрой дверь. Ради всего святого, постарайся, чтобы мама об этом не узнала.
В этом великая нравственная проблема, – подумал Юджин. Его начинало мутить.
Хелен вернулась очень скоро с чайником, полным горячей воды, стаканом и коробочкой соды. Гант безжалостно поил его этой смесью, пока его не начало рвать. Когда пароксизм достиг высшей точки, появилась Элиза. Он тупо приподнял раскалывающуюся голову над тазом и увидел в дверях ее белое лицо и близорукие карие глаза, которые умели сверлить и сверкать, когда в ней просыпались подозрения.
– А? Э? «В чем дело?» – сказала Элиза.
Но она, конечно, сразу поняла, в чем было дело.
«Что ты сказал?» – спросила она резко. Никто ничего не говорил. Он слабо ухмыльнулся в ее сторону – несмотря на тошноту и тоску, его насмешило это неуклюжее изображение слепой наивности, которое всегда предшествовало ее открытию. И, увидев ее такой, они все рассмеялись.
«О господи! – сказала Хелен. – Вот и она». А мы надеялись, что ты придешь, когда все уже кончится. «Посмотри-ка на своего маленького», – сказала она с добродушным смешком, ловко поддерживая его голову широкой ладонью.
Ну, как ты теперь себя чувствуешь, сын? – ласково спросил Гант.
Лучше, – пробормотал он, с некоторой радостью обнаруживая, что онемел не навсегда.
Вот видишь,– начала Хелен довольно ласково, но с угрюмым удовлетворением, – это доказывает, что мы все похожи. У нас у всех есть такая склонность. Это у нас в крови.
«Это ужасное проклятие! – сказала Элиза.– Я надеялась, что хоть один из моих сыновей его избежит». «Наверное, – сказала она, разражаясь слезами, – господь нас карает». Грехи отцов…
О, ради всего святого! – сердито воскликнула Хелен,– Прекрати это! Он же не умрет. А уроком это ему послужит.
Гант пожевал узкую губу и облизал большой палец, как когда-то.
«Сразу можно было догадаться, – сказал он, – что виноватым во всем окажусь я. Да… сломай один из них ногу, было бы то же самое».
«Одно точно! – сказала Элиза. – Никто не унаследовал этого с моей стороны». Говорите, что хотите, но его дед майор Пентленд капли никому не позволял выпить в своем доме.
– Черт бы побрал майора Пентленда! – сказал Гант. – У него в доме все ходили голодными.
«Во всяком случае, жаждущими», – подумал Юджин.
– Забудь об этом! – сказала Хелен! – Сегодня рождество. Хоть раз в году проведем время тихо и мирно!
Когда они ушли, Юджин попробовал представить себе их в сладком покое, к которому они так часто взывали. Результат, подумал он, мог бы оказаться хуже, чем результат любой войны.
В темноте все вокруг и внутри него отвратительно поплыло. Но вскоре он провалился в пропасть тяжелого сна.
Все подчеркнуто простили его. Они с навязчивой тщательностью обходили его проступок, приятно исполненные рождественского милосердия. Бен хмурился на него совершенно естественным образом, Хелен усмехалась и тыкала его в ребра, Элиза и Люк растворялись в нежности, печали и молчании. От их всепрощения у него гудело и ушах.
Утром отец пригласил его прогуляться. Гант был смущен и растерян: на него легла обязанность деликатного увещевания – на этом настояли Хелен и Элиза. Хотя в свое время Гант, как никто, умел метать громы и молнии, трудно было найти человека менее пригодного для того, чтобы рассыпать цветы прощения и благости. Его гнев бывал внезапным, его тирады рождались сами собой, но на этот раз в его колчане не было ни одной громовой стрелы и его задача не доставляла ему никакой радости. Он чувствовал себя виноватым, он испытывал такое же чувство, с каким судья мог бы приговорить к штрафу своего вчерашнего собутыльника. А кроме того: вдруг сын унаследовал его вакхические склонности?
Они молча прошли через площадь мимо фонтана в кольце льда. Гант несколько раз нервно откашлялся.
– Сын, – сказал он наконец. – Надеюсь, вчерашний вечер послужит тебе предостережением. Будет ужасно, если ты пристрастишься к виски. Я не собираюсь бранить тебя, я надеюсь, что это будет тебе уроком. Лучше умереть, чем стать пьяницей.
Ну вот! Слава богу, это позади.
– Конечно! – сказал Юджин. Он испытывал благодарность и облегчение. Как все они были добры к нему! Ему хотелось давать страстные клятвы и торжественные зароки. Он попытался что-то сказать. И не сумел. Сказать надо было слишком много.